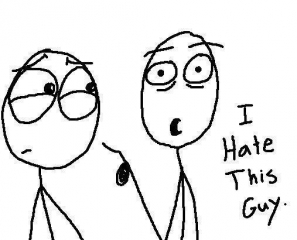Рассказ
Серебристое январское солнце, с утра еще подмигивающее редкими лучами, к двум часам дня окончательно затопили серые липкие тучи. Я шел из школы, задрав вверх голову и рискуя каждую секунду оступиться и в буквальном смысле ударить лицом в непролазную грязь, и видел в застиранной фланели неба свою мечту – шикарную семицветную ручку. Ручка эта была красная и толстенькая – как маленький сомик – и имела семь (о боже!) неповторимых удивительных цветов: черный, синий, красный, фиолетовый, зеленый, голубой и розовый. Я мечтал обо всех цветах, но более о всего о голубом и розовом – обладание этими чернилами означало бы вход мой в буржуйскую роскошь. Школьный пролетариат имел доступ к скучным, мещанским цветам: синему, красному и зеленому. Черный был в обиходе только у девочек старших классов, которые тушью разрисовывали плакаты к праздникам. Каждый год одни и те же. Новый Год – плакат с надписью и девочкой, украшающей уже разукрашенную елку. Восьмое марта – плакат с надписью и девочкой с букетом мимоз. Навруз – плакат с надписью и девочкой, помешивающей в котле сумаляк*. Надпись черная, девочка с косичками и разноцветная. С тех пор черный для меня цвет бюрократии.
Я хлюпал по расползающемуся под ногами темному снегу и мечтал о ручке. Я представлял, как небрежно держу ее двумя пальцами, как задумчиво грызу ее верхушку, как деловито меняю цвета. Как пишу диктант синей пастой, а подчеркиваю – тут у меня почти текла слюна – розовой. Сапоги мои давно промокли – еще бы, задумавшись, я не пропустил ни одной лужи – вода впилась в шерстяные носки и вместе с шерстью прилипла к ногам. С деревьев падали капли – в нашем климате снег надолго не задерживается – дорога домой превратилась в отвратительную холодную и мокрую кашу со следами ног и шин автомобилей – небо спустилось на землю молочно-грифельным воздухом – уныло таращились серыми окнами дома – а я шел и не видел перед собой ничего, кроме по-летнему красной ручки.
Как водится, путь к мечте не бывает без препятствий. Ручку нельзя было купить – во-первых, у нас ее еще не продавали, а во-вторых, если бы и продавали, она бы стоила несусветных денег. В магазинах предлагались только трехцветные – скучные, с казенными цветами – и даже они стоили слишком дорого. Так дорого, что мать никогда бы мне такую ручку не купила. Что уж говорить о красной… Стоит ли удивляться, что единственная на весь город (я почему-то в этом был уверен) семицветная ручка была у самой богатой девочки в моем классе. У девочки Маши. Маша была нервной и избалованной – жила с бабушкой, родители занимались торговлей где-то в России. Моя мама говорила, что Машу жалко, потому что у нее нет рядом отца с матерью, а я отчаянно Маше завидовал. Модный ранец – розовый, с Сейлормун. Огромный пенал в сердечках, в который помещались ручки, линейки, стирательная резинка и восемнадцать фломастеров. Свежие котлеты с нежным пюре в диковинных стеклянных контейнерах. Шоколадные конфеты в золотистой обертке. Бирюзовая шубка и белоснежная шапочка. А главное – ручка. На переменах я ходил осторожными кругами вокруг парты Маши – пытался краем глаза схватить ручку, мирно лежащую в пенале, норовил пройти мимо, когда никого не было в классе, и ненароком коснуться ее темно-красной прохладной глади, содрогался от желания схватить ее и никогда больше из рук не выпускать. Не брал, конечно. И не просил Машу дать ручку посмотреть, как другие дети. Я – боялся. И Маши, и насмешек одноклассников, и презрения учительницы. В классе я был одним из самых бедных. Мать моя была портниха. К середине девяностых ее профессия стала никому не нужна: на рынках появились вещи из Китая – красивые, яркие, недорогие. Шить стало дорого и немодно. Отца у меня не было с рождения. Где он и что с ним – я почему-то у матери спросить не решался. Мать шила мне рубашки из отрезов со стариковским рисунком – белый фон, а на нем жирные синие полосы, — покупала одни джинсы на сезон и ежедневно складывала в рюкзак на обед перловую кашу в банку из-под маргарина «Рама». Эта перловая каша была моим стыдом и наказанием. Остальные дети обедали в столовой – кормили там ужасно, но все равно считалось, что это «круче», чем приносить обеды из дома. Конечно, некоторые обеды были исключением и предметом для зависти, например, уже упомянутые котлеты. От меня с моей перловкой отворачивались и кривили лицо. Девочки не хотели сидеть со мной за одной партой, говорили, что я воняю. Я не помню, вонял я или нет. Может, и правда, вонял. А может, дети, как животные, резко чувствуют особь, отличающуюся от них и сразу, на всякий случай, атакуют эту особь, пытаясь свести таким образом контакт до минимума.
Однако все это были лишь прелюдии: и шутки, и смешки, и толчки словно невзначай, и отказы играть со мной в футбол, и нежелание вставать со мной в пару, когда стройной шеренгой нас гнали в актовый зал, и отсутствие ролей в новогодних спектаклях. Или такие роли, от которых повеситься хотелось. Например, роль кочана капусты – мама тогда нарядила меня в костюм, отдаленно напоминающий женское бальное платье. Еще была роль медведя, которого атакуют пещерные люди и забивают копьями. Окончательное же мое падение в глазах класса, навеки отрезавшее меня от возможности попросить подержать ручку, произошло после одного случая – удивительно незначительного, если о нем задуматься, но навсегда уничтожившего меня в глазах одноклассников и учительницы. Я решил перекусить на большой перемене. Лет до тринадцати мне постоянно, невыносимо хотелось есть – рос, видимо. Я достал свою темно-желтую баночку из-под «Рамы», доверху набитую перловкой и, облизываясь и ссутулившись над партой – чтобы не видели, как я ем кашу, — принялся банку открывать. Я тянул на себя пластмассовую крышку, она не поддавалась, я потянул сильнее, еще – и тут случилась катастрофа – крышка резко отскочила от краев банки, банка вылетела из моих рук и перловка выстрелила из нее белым дождем – мой обед рассыпался по парте, по полу, по волосам сидевшей впереди меня девочки-отличницы. Несколько секунд я сидел оцепеневший – пытался осознать, что мне до вечера ходить голодным. Отличница визжала, обзываясь на меня. По лицу ее катились слезы. Мне ее действительно было жаль – противно, наверное, чувствовать на волосах крошки каши. Одноклассники подбежали, сгрудились вокруг нас и переговаривались. Учительница поднялась из-за своего стола. Подошла. Увидев, что я натворил, сказала: — А ну быстро убери эту гадость, — и увела отличницу умываться. Ее голос вывел меня из ступора, я опустился на пол и начал руками собирать кашу – она была еще теплая, перловые крупинки липли к моим пальцам и не хотели отцепляться, когда я пытался сбросить их в свою коробку. Каша смотрела на меня со всех сторон – свежая, все еще вкусная – и мне так захотелось ее, что я не выдержал и украдкой, пригнувшись к полу еще сильней – будто бы собирая кашу, сунул пальцы с остатками перловки в рот. Мягкий вкус обжег мне рот, а через минуту мои уши обожгли слова: —Смотрите, он кашу с пола ест!
—Как бомж!
—Побирашка!
—Фу!
—Гадость какая! Нищий!
Мальчики улюлюкали, девочки отворачивались. Не поднимая головы, сжавшись от желания уменьшиться до размеров перловой крупинки, я продолжал собирать свою еду. Моя репутация была совершенно погублена, но в тот момент я жалел только о том, что не додумался сложить перловку в коробку и тайком поесть ее позже, по дороге домой. Она была такая вкусная.
Учительнице, конечно, все рассказали. Она поморщилась и с тех пор решила меня не замечать. На уроках не вызывала, тетради проверяла кое-как – мать несколько раз хотела пойти в школу поговорить с ней, но я отговорил – боялся, что учительница расскажет матери о случае с кашей – о том, что я ел ее с пола. Мне казалось, что узнав о моем поступке, мать меня разлюбит и у меня совсем никого не останется. У детей своя логика.
Было одно положительное следствие моего отлучения от общества: мне теперь никто не мешал мечтать о ручке. Для одноклассников я стал невидимым. Даже другие патологические неудачники сторонились меня. И дело, конечно, было не только в моей бедности, полосатых рубашках и перловке – хотя это, конечно, все были факторы тоже важные. Дети чувствовали, что я другой. И чем взрослее мы становились, тем острее они осознавали мою непохожесть. В детском саду нет никакой разницы между мальчиком толстым, мальчиком со смешной фамилией и мальчиком необъяснимо странным. Смеются над всеми одинаково. В школе уже иначе. Толстый мальчик начинает дружить с мальчиком со смешной фамилией, раз их двое – они сила, их частично признают одноклассники. Но странного мальчика признать невозможно: он чужой, он не наш. А если странный мальчик вдобавок к этому вечно молчит, ест перловку и носит полосатую рубашку, считайте его школьную судьбу загубленной.
Нельзя сказать, чтобы я сильно страдал от одиночества. Хотелось, конечно, почувствовать, каково это – шептаться на уроках, бегать вместе с кем-то на перемене в туалет, обсуждать девочек (футбол мне обсуждать не хотелось), делить пополам булочку, но вместе с тем… Мне было хорошо в своем коконе – я научился ценить независимость и свободу – и одинокие прогулки из школы домой, когда я всякий раз по-новому глядел на старый маршрут и раз за разом, не уставая, размышлял, кто может жить за окном с оранжевыми занавесками или кто по ночам прячется за гаражом и пишет на нем слово «х*й»; и спокойные, неторопливые обеды дома – я разогревал суп или кашу – укладывал на стол книжку, почему-то особенно много тогда перечитывал милицейские записки Шеина и «Владетеля Баллантрэ», заваривал пакетик с малиновым чаем, счастливо вздыхал и принимался за трапезу с изумительными собеседниками; или мои спокойные послеполуденные часы – после обеда и мытья посуды – я или читал книгу (обычно иную, чем во время обеда – так у меня было заведено), или готовил яд. Обожая детективы и мечтая о ручке, я додумался до того, чтобы отравить Машу – не чтобы я сильно ее ненавидел, нет – скорее, она меня раздражала тем, что перекрывала доступ к ручке. А ручка ждала меня – она хотела, чтобы я взял ее в руки и сложил в нагрудный карман – ближе к сердцу – она просила этого – своей ракетовидной формой, четко выскакивающими стержнями при смене цветов, аккуратной закругленной макушкой. Для яда я придумал рецепт очень простой. Мама вечно стращала меня таблетками: говорила, что, если проглотить не те таблетки или не в том количестве, запросто можно умереть. Я решил натолочь понемногу всех таблеток из аптечки и размешать в уксусе (насчет уксуса мама меня тоже предупредила), а затем, когда смесь настоится, отнести в школу и подлить или подсыпать Маше в обед. Для хранения яда я выбрал пузырек из-под аскорутина – темно-голубой, пластмассовый. Приготовить яд заняло у меня несколько месяцев, потому что мне казалось, что ингредиентов недостаточно – мне надо было, чтобы Маша непременно умерла, я почему-то не видел иного выхода из создавшегося положения вещей – и я продолжал добавлять таблетки и любые найденные в доме жидкости, включая хлоровый отбеливатель, в микстуру. Пузырек прятал за старым сервантом в детской. По ночам я планировал, как попаду в столовую и смогу сесть рядом с Машей – это было действительно тяжело придумать, поскольку денег на обед мне не давали, а сесть с Машей означало маленькую революцию и привлекло бы ко мне внимание, чего я, как будущий преступник, хотел менее всего. Странно, но я совершенно не волновался о том, как спрячу в еде свой яд, похожий на мумие – видимо, думал, что Маша умрет мгновенно, как Марстон* от цианистого калия. Зато я хорошо просчитал, как буду забирать ручку. Когда Маша станет задыхаться и начнется паника, я вскочу и побегу в класс – там никого не будет, все ведь на обеде – схвачу ручку и вернусь обратно в столовую. Я как-то замерил время от класса в столовую – всего полторы минуты без траффика (без детей). То есть на все про все, включая изъятие ручки из машиного пенала – четыре минуты. Когда же начнут искать ручку – я так был уверен, что после смерти девочки ее будут искать – никто уже не вспомнит, что я пропал на несколько минут. От гордости планом я иногда не спал целыми ночами.
Пробраться в столовую и сесть рядом с Машей мне так и не пришлось. Зато выпал случай ручку украсть. Странно, но до самого момента кражи мне никогда эта возможность в голову не приходила. Я придумывал дикие сценарии, но не мог додуматься до элементарного воровства.
Это случилось в мае. Близились летние каникулы, мы готовились к ежегодным экзаменам, на которых нас проверяли на скорость чтения и красоту почерка, мучились от жары в душных классах, завистливо поглядывали на ветки цветущих вишен – усыпанные бело-розовыми, молочными цветами те беззаботно стучались в окна и кивали нам. Иногда учителя разрешали открыть окно и счастливчики, сидевшие у окна, могли дотянуться до вишни и сорвать для себя кусочек весны. Я обмахивался тетрадкой с задней парты третьего ряда – и мечтал: о лете, книжках и, конечно, о ручке.
В тот день было совсем жарко и мы сидели осоловевшие от духоты. Клонило в сон. Все, включая учительницу, не могли дождаться звонка на перемену и вырваться из газовой камеры класса хотя бы на десять минут. Я украдкой глядел на парту Маши: ручка, вынутая из гнездышка в пенале, небрежно лежала возле него. Бока ее ярко горели красным на солнце – призывно и маняще – я любовался на мою красавицу – облизывался – и тут произошло то, о чем я и мечтать не мог. Маша задремала, учительница заметила это и резко ее окликнула. Девочку вырвали из сна, она резко вздрогнула, дернула руками, задела пенал, тетради, карандаши, а главное, ручку – и все это сдвинулось к краю, а секундой позже с грохотом упало на пол. Перед моими глазами медленно, не спеша – обман зрения, конечно, — летела ручка. Я кинулся подхватить ее, чтобы она не ударилась о жесткий дощатый пол, но удержался – мне нельзя было выдавать свои чувства. Летели пенал, тетради, карандаши, вскрикнула Маша, повскакивали дети – а ручка во всем этом хаосе приземлилась – благополучно! – не треснула, не раскололась – и, словно слушаясь моего взгляда, закатилась под металлическую трубку парты, связывающую стол со стулом – расстояние между трубкой и полом было небольшим, но ручка как-то умудрилась втесаться в это расстояние и схорониться в нем. Если не приглядываться, увидеть ее было практически невозможно. Все бросились помогать Маше собрать вещи с пола, она начала громко рыдать – она часто плакала по поводу и без – я тоже подскочил к ее парте, делая вид, что хочу помочь, а на самом деле так встал, чтобы загородить своими кроссовками мою красавицу. Я суетился, оглядывался, тряс руками, пока Маша меня не заметила.
—Уйди, урод, а, без тебя тошно.
А сама покраснела. Маша думала, из-за того что я вечно пялюсь в ее сторону, будто я в нее влюблен. Конечно, ее это раздражало, но в то же время льстило, конечно. Ведь она так меня унижала, а моя любовь все это выдерживала. Я не пытался разубедить одноклассницу – для меня игры ее воображения служили удобным прикрытием – я мог, не таясь, смотреть на ручку. Уже тогда я понял, что девочки мне не нравятся и не понравятся никогда – они казались глупыми, неестественными и ненужными. То ли дело мужчины… Например, загадочный и злой Баллантрэ – тонколицый, стройный, непонятный – как я радовался его моральным победам над никудышным Генри, насмешками над курицей Алисой, как переживал о его неприкаянности. Я всегда знал, что буду любить мужчин – мне не казалось это ненормальным, нездоровым – возможно, потому что я всегда был один и сознание мое формировали книги, а подобная комбинация оставляет разум человека свободным от предрассудков. Я не говорил никому о своих мыслях – да и кому бы я сказал, со мной никто не разговаривал – но дети, как я уже упоминал, чувствовали инаковость. Несмотря на то, что они верили в мою глупую увлеченность Машей, первые подозрения появились – вероятно, мои взгляды на мальчиков, бегающих в трусах по полю, выдавали меня – и выражались в глубоком инстинктивном презрении. Тогда мне это казалось неважным – просто не было нужды в признании меня и моей личности. Позже я, конечно, в полной мере осознал всю сложность моего положения – все подтеки и трещины жизни, возникшие из-за него: слезы матери и взгляды окружающих – бранные слова и нескрываемая брезгливость – глубокое одиночество и, куда без этого – неудачи в любви.
Едва Маша и остальные успели собрать ее вещи с пола, как прозвенел звонок. Все дернулись с места, как лошади на скачках после сигнального выстрела. Маша тяжелым шагом загалопировала в столовую за булкой – она была девочка высокая, полноватая и поесть любила. Я остался один. Я очень рисковал – любой из одноклассников мог вернуться в любую минуту: или деньги забыл, или яблоко в ранце. Громко взглатывая от страха воздух, я снова подошел к Машиной парте, сердце мое стучало и подавало рвотные сигналы – так и хотело выброситься из горла – руки покрылись липким потом; оглядываясь и умирая от страха перед позорным разоблачением, я резко нагнулся и схватил ручку из-под трубки. Метнулся к своей парте. Судорожно сунул ручку на дно ранца, за банку с перловкой. Пальцы тряслись, я облизывал пересохшие губы и уже начал бояться: что меня кто-то видел из-за неплотно прикрытой двери, что меня видели в окно, что будут обыскивать мой ранец, что моя мать побелеет, когда ей скажут правду о ее сыне. Меня знобило; чтобы успокоить пальцы, я принялся рисовать загогулины на последней странице тетради. Перемена казалась бесконечной. Я жаждал начала урока, хотел людей – несмотря на то, что боялся их как никогда, — хотел звонка с последнего урока и дороги домой. Дома тепло и безопасно – мечтал я – дома я спрячу ручку и никто не докажет, что я ее украл.
Не помню, как кончился тот учебный день. Помню – было плохо. Дорогу домой тоже припоминаю с трудом. В тот день я ничего не замечал – мне было не до этого, необходимо было спрятать себя и ручку.
Дома я достал ручку. Впервые она по-настоящему была в моих руках. Она покоилась у меня в ладони – принимала тепло моих пальцев – нежилась в них, гордо поблескивая новизной – Маша почти никогда ею не писала – экономила до лучших времен. До меня, усмехнулся я. Разглядывая свое сокровище, я продолжал оглядываться по сторонам, будто и дома меня могли поймать с поличным. Пропажу ручки Маша, конечно, заметила. Назавтра были допросы, перешептывания, разъяренная бабушка. Я дрожал как ноябрьский лист. Ручку, ясное дело, не нашли, а под подозрением остались все мы и уборщица. Спустя неделю у Маши была уже новая ручка – теперь с двенадцатью цветами. Она была еще больше, еще ярче моей красненькой, но симпатий у меня не вызывала – неродная была, что ли. Первое время я страшно боялся разоблачения и каждый день ожидал ареста. Постепенно успокоился: Маша была занята новыми канцелярскими принадлежностями и булками, остальные о краже давно забыли. Смотреть в сторону Маши и ее парты я перестал. На переменах ел свою перловку и думал, что я сегодня буду писать своей ручкой. Вспоминая это время, кажется, что оно было – счастьем. У меня была ручка, у меня были мысли, у меня были книги – что еще надо человеку?
Прошло больше трех недель после кражи, прежде чем я решился написать первое слово украденным сокровищем. Я боялся использовать ручку при выполнении домашних заданий – даже стандартными цветами – а вдруг Маша решит открыть мою тетрадь и мистически узнает пасту? Я решил писать ручкой только в своем дневнике. Писал я много – в основном, о книгах – кого я в них особенно люблю. Еще о том, кого из одноклассников хочу отравить (Маша мне была уже неинтересна, а вот идея с убийством – да), позже – о мальчиках из школы, которые мне нравились. Перед тем как начать запись, я обычно долго вертел ручку в пальцах – писать ею было, если честно, неудобно, уж очень она была толстенькая. Пальцы после одной-двух страниц начинали болеть. Но я не отступал и пользовался своей сбывшейся мечтой – спрятать ее и не вспоминать было бы преступлением после всего, что я за нее перестрадал. Родным предметом ручка не стала. Слишком она была для меня красивая, слишком несбыточная, слишком чужая. Я чувствовал свою ущербность, держа ее в руках – в моих обгрызанных красных пальцах ручка выглядела как заморская птичка, попавшая в замызганный курятник. И сколько я ни пытался убедить себя, что достоин ручки так же, как любой другой – в глубине души осадком лежала горечь несоответствия. Ручка словно надменно смеялась надо мной, сжатая в моей ладони и причиняющая мне боль, – вот, казалось, говорила она, сверкая пурпуром – измучив собой мои пальцы – хотел меня, красавицу, получай. И я смотрел на нее с упоением и понимал, что моей она никогда не будет – я не умею обуздать мечту и пользовать ее по своему усмотрению – нет, это мечта моя терзает меня и держит в повиновении. Потому что рожден я был не для мечты, не для счастливого обладания, а для унизительного ожидания и наслаждения украдкой. Для коротких моментов радости. Для постоянного мучительного страха их потерять. Через пару лет закончились чернила – как ни странно, именно те, что были самые скучные – черные, синие, зеленые – голубые и розовые были почти нетронуты – я не решался ими писать. Да и плохо их видно на бумаге. Я почти перестал вести дневник – вдруг мать обнаружит – и ручку стало негде использовать. Я ее спрятал, а потом и вовсе о ней забыл – нашел при переезде в двадцать лет и она показалась мне старой, тусклой, скучной.
Чувство вины и стыда за воровство, конечно, тяготило долгие годы. Я до сих пор никому в этом поступке не признался – даже маме, даже партнеру. Эта ручка – моя тайная страсть – как, например, первый в жизни сеанс онанизма – страсть запретная и сладкая – неловкая и робкая – зачатки счастья, в которых не признаешься никому и уносишь с собой в смерть. Несмотря на стыд, я не жалею, что украл ручку – в конце концов, она принесла мне столько счастья, да и Маша не пострадала – еще лучше ручку отхватила. Странное это чувство – и боязно, и сладко – и невыносимо, и прекрасно. Сладкая неповторимая мечта – моя ручка – кроваво-красная – как любовь, бесстыдно зовущая – как любовь, непереносимо нужная – как любовь.
В моей жизни было несколько страстей, и очень часто – помимо моей воли – меня охватывало смятение – оно проникало в меня пронырливо, незаметно – будто снова я что-то своровал – нечто запретное – украл поцелуй, украл ласку – украл потенциального жениха у какой-то девицы – потенциальных внуков у глупой, но любящей матери – спокойные и несчастливые ночи у Него. Понимал, что дело, собственно, не во мне, а в устройстве мира, из которого я оказался ненароком вырезан – и я не хотел обращать на это внимание, но люди хотели – этот мир не по мою душу, так же как ручка была не по мое детство и все-таки, и все-таки… Я не мог запретить себе ни тогда, ни сейчас малый кусочек желанного – я ведь так мечтал о нем во время долгих прогулок от школы домой, длинными ночами, одинокими обедами – оно причитается мне так же, как любому – куцый кусок январского неба, хлюпающая вода в промокших ботинках, отяжелевшая от цветов вишневая ветка, развернутая книга на обеденном столе рядом с дымящейся тарелкой, чье-то лицо в окне за оранжевой занавеской, пол в абсурдных узорах еще теплых жемчужин, рубашка в синюю полоску, коробочка с застывшим ядом за сервантом – у каждого есть все это, но в своей вариации и каждый мечтает о своей темно-красной ручке – а получив ее, мучается – муками совести ли, радости – мучается, но пишет ею – меняя чернила – дневник своей жизни – с перерывами, с отступлениями, со слезами – но только ею – и в каждой строчке бьется ее дыхание – неровное и частое, угасающее и холодеющее со временем – но все же дыхание – смятый шепот усталой мечты.
—
Примечания:
Сумаляк* – национальное узбекское блюдо из пророщенных зерен пшеницы; по традиции готовится на Навруз – праздник нового года по солнечному календарю у тюркских народов.
Тони Марстон* – герой романа «Десять негритят» Агаты Кристи. По сюжету романа умирает от отравления цианистым калием.